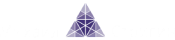Еле а Kpdxoва. Pomа «Xocnuc». Puðеpo, 2019.
Елена Крюкова в своём романе «Хоспис» продолжает начатое в её прежних произведениях исследование бытия. По глубине постигнутого и разнообразию подходов она уже превзошла Достоевского.
Весь роман «Хоспис» – это четырёхсотстраничная метафора возвращения блудного сына, где сын, сбежавший из дома ещё ребёнком, возвращается, будучи мужчиной в годах и смертельно больным. Но, как ни странно, об этой притче мы говорить не будем.
Есть разные точки зрения на то, что отличает человека от животного, но ближе всего к истине, на мой взгляд, та, которая считает, что человек означивает бытие. С этим тезисом согласна и Библия: «в Начале было слово». Человек придумал слова: «стол», «стул», «целовать», застолбив таким образом семантические координаты, вокруг которых он научился мыслить.
Дальше – больше, он начал обозначать не точки, а целые семантические концепты, например, так обозначил Декарт деление человека на телесное и духовное. И при таком разделении появилась возможность анализировать антропологическую эволюцию.
Елена обозначает целые семантические континенты-романы.
Если раньше живопись репрезентировала реальность, то в девятнадцатом веке поняли, что в живописи, как в языке, есть алфавит и его можно изучать: пуантилизм Сёра, кубизм Пикассо, супрематизм Малевича и т.д. Живопись раскладывали на атомы, на молекулы, на целые ткани. Как писал Кассирер, создатель понятия символической формы, если раньше атомом смысла было слово, то постепенно единицей смысла стало предложение. Крюкова превращает в единицу смысла целый роман. Если в русском языке тридцать три буквы, порядка пятисот тысяч слов, то сложно представить, сколько атомов-романов в нём содержится. И Елена ищет их и находит.
Елена вышла из-под чар действительности, фокусируя взгляд на конкретной семантической области и взламывая её, как солнце весной взламывает лёд на реке, запуская ледоход. Если Декарт разложил человека на душу и тело, то можно продолжить эту иерархию и разложить тело на ткани и скелет; наверняка можно продолжить такой ряд и с душой. Если обычный роман содержит в себе всего понемногу, то роман «Хоспис» – это непрерывное бряцание костями, которые, в свою очередь, являются символом смерти.
Роман «Хоспис» – это гимн смерти.
Один из главных героев, Матвей, говорит: «В жизни есть только смерть. Да, только смерть. Я это понял». Где-то в романе звучит другая мысль, что нужно учиться не жить, а умирать. Это важная, тяжёлая мысль, к которой нужно многократно подходить с разных сторон, чтобы хотя бы на долю процента осознать её.
Вспоминается роман Владимира Савченко «Открытие себя», в котором главный герой, клонируя собственную персону, растворял очередной клон, поскольку тот, на его взгляд, не получался. И когда в очередной раз опыт, по мнению экспериментатора, удался и герой позволил клону ожить, тот выпрыгнул из ванны, упал на пол и молил учёного не убивать его больше.
Таким образом, автор показывает, что, несмотря на независимость этих клонов, они всё же связаны посредством памяти универсума. Я здесь не буду рассуждать на тему боли и страха небытия, интереснее ужас прихода в ту же точку, из которой ты начинал, и, соответственно, возникает вторая важная мысль, вытекающая из мысли о смерти, – это мысль о природе времени.
У Лакана, ученика Фрейда и основателя современного психоанализа, есть интересный концепт, называемый стадией имаго, когда ребёнок начинает рефлексировать и распознавать себя. В природе так назван процесс превращения гусеницы в бабочку. А теперь представьте, что вместо бабочки каждый раз появляется снова гусеница, то есть бабочку каждый раз убивают. У меня создалось впечатление, что это одна из метафор, заложенных в роман. Главный герой Марк – супергерой, который чудесным образом выживает на зоне, много раз уходит из-под пули и ножа преступников, сбегает от террористов в Ливии, остаётся невредимым после падения самолёта у берегов Америки и сильнейшего землетрясения в Мексике. И Господь, оставляя его живым, каждый раз надеется, что в этот раз получится бабочка, но герой только краешком преобразуется, и тут же энтропия добивает небольшое преображение, снова превращая спираль в круг, – звериное вновь начинает преобладать. Иными словами, Марк – анти-Иов, у которого каждый раз всё забирают, он вновь отряхивается и идёт дальше, нисколько не меняясь: «…а время рядом идёт. Тяжёлый такой поступью. Шагает, как слон. Под его ногами, под его ступнями гибнет всё живое. Гибнут люди, звери. Дома. Города. Стоят мёртвые города, осыпаются пыльцой».
Но можно взглянуть на это по-другому. Данте в своей гениальной «Божественной комедии» проводит главного героя по девяти кругам ада, но этот поход, в котором героя сопровождает Вергилий, символ разума, может явиться метафорой похода к любви. Что, собственно, и происходит в «Божественной комедии», где в дальнейшем пути, уже в раю, героя сопровождает Беатриче, символ любви. То есть каждый круг, который нам со стороны кажется замкнутым, на самом деле в другом измерении разомкнут и представляет собой сложную спираль. И тогда, чтобы научиться любить, нужно пройти все девять кругов ада и чистилище – хоспис, может быть, – в течение даже не одной жизни.
Но и наоборот, прямая – это ещё более страшная траектория: прямая отрывает от корней и оставляет без прошлого. Если цикл страшен отсутствием времени, то прямая – это время в чистом виде. Поэтому каждого тянет к концу жизни на родину, в рай, и поэтому возникла метафора блудного сына.
Кроме того, каждый индивид участвует во множестве циклов разных иерархий, и их все нужно в той или иной мере замкнуть. Имеются ежедневные циклы, есть циклы становления и есть жизненный цикл, и Елена все их распознаёт, включая главный, жизненный цикл: «он медленно и постепенно становился землёй, родной землёй, и стал плоть от плоти её, и стал кость от кости её».
У Лакана есть ещё концепт, согласно которому мы состоим из других в том смысле, что мы мыслим набором паттернов, которые мы переняли у других, сперва у родителей, потом у бабушек, дедушек, потом друзья, школа и т.д. Иными словами, мы в некотором смысле воры, мы крадём у других их духовность. И эта мысль остро прослеживается у Елены при попытке понять Марка: «я грабил… и становился тенью того, кого грабил. Я… ему… им… подражал. Я сам… не осознавал этого… тогда. Сейчас… знаю… Подражал, чтобы… стать как они… стать – ими…», или ещё: «вот они почему бывают-то воры. Они мечтают прожить не свою жизнь. Хотят прожить сотню, тысячу чужих жизней». Но здесь есть важная разница: если вор украл вещь, то он оставил владельца без его вещи, если украли мысль, то она клонировалась и появилась в двух вариантах – у владельца и у вора. Причём, и это тоже важно, они не совсем одинаковые: они окрашены субъективностью носителя. Достаточно вспомнить слова Иешуа Га-Ноцри из романа
«Мастер и Маргарита»: «…ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил».
Однажды я выложил в сетях пост из цикла «Диаграммы метафизики», где утверждалось, что человек, страстно любящий жизнь, вряд ли создаст что-то по-настоящему новое. Новое может создать тот, кто любит смерть, поскольку всё новое рождается из небытия, и такой человек всегда несколько сумасшедший. И эта мысль коррелирует с финальным оборотом спирали романа, где главным героем оказывается в итоге не вернувшийся сын, а лечивший его отец. И тот срок, на который отец продлил жизнь Марка, позволил сыну осознать все свои ошибки и принять такую жизнь, которая состоялась. Это позволило ему перейти на белую сторону. И это – сильнейшая мысль: что необходимо бороться до тех пор, пока ещё жизнь теплится, и что срок отпущен не зря и не впустую.
Таким образом, есть надежда, что роман Крюковой, насыщенный глубокой метафорикой разных уровней и такими же глубокими смыслами, позволит состояться стадии имаго читателя и поможет ему преобразиться из гусеницы в бабочку.