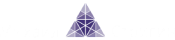Когда ты воспитан в определённой поэтической школе, то даже понимание иной идеологии и признание других представлений о форме и содержании, не помогает увидеть автора без предубеждений. Когда я впервые открыл эти дольники и расшатанные анапесты, рифмованные, нерифмованные и частично рифмованные верлибры, больше похожие на избыточно щепетильные переводы с другого языка, чем на русские стихотворения, то первым делом спросил: кто их читатель? Если это «ума холодные наблюдения и сердца горестные заметы», лишённые регулярной музыки, то почему они подаются как стихи? Но при повторном чтении постепенно законы этой чужой гармонии стали проступать яснее. По словам Виталия Кальпиди читатель надевает стихотворение, словно пиджак. Вся конструкция дыхания, композиция пауз существуют только для того, чтобы читатель дышал и молчал вместе с автором, а потому находился с ним в одном состоянии, в одном настроении. И патетически-траурная манера жить в нескольких сантиметрах от пола, которой меня учили, здесь невозможна. Автор живёт внутри сбитого ритма, он задыхается, захлёбывается, и вынуждает задыхаться и захлёбываться своего читателя, чтобы тот обращался не к эпосу и порыву, а к стыду и обиде. Эти стихи – «зазубрина», которая надрывает плащ любимой женщине на выходе из супермаркета. Они задуманы с изъяном, потому «Бог сильный, он может полюбить даже изъян», а человеку хочется вс пригладить. И Михаил Стригин пытается вынырнуть рыбой из «человеческого», чтобы снаружи поглядеть на океан.
При многочисленных обращениях к Чуковскому и Пастернаку, главным поэтом для Михаила был и остаётся Владимир Высоцкий (ни разу в книге ни упомянутый, фигура молчания), поскольку чуть ли не довлеющим приёмом является речь маски (сползание маски, срастание с маской), даже заканчивается книга поэмой «Карнавал». В традиционных культурах надевание маски – есть отмена времени, вырезание себя из мира обыденного, переход в мир магический, перевёрнутый. Из того перевёрнутого мира лучше видно всё происходящее в покинутом. И все эти монологи масок, современных Будд или Раскольниковых – изобретённая Михаилом оптика, наподобие огромного зеркального потолка в фойе театра, где ты видишь себя самого внутри толпы, а не просто мелькающие мимо лица. И эта иная точка взгляда даёт другие тем, и другое осмысление проживаемого. И даже библейские темы становятся исповедальной лирикой.
Два самых удачных текста в книге: «Фаны» и «Болезнь». Оба – прямая речь без маски, но читатель проживает их из состояния ангела, наблюдающего за человеком. Читатель не становится Михаилом в процессе чтения, а сопровождает его в иномирье. И такой опыт – крайне ценен, он ведёт к расширению знаний о себе и о мире. Я, например, всегда теперь буду помнить, что «вода в аду становится святой».