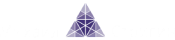Один из удивительнейших образов, созданных в поэзии, — это чёрное солнце Мандельштама. В представлении поэта чёрное солнце объемлет естественное, подпитывая его энергией. Конечно же, поэт в своих стихах раскрывал уже ставший архетипичным образ смерти, образ космоса. Самое простое, но несущее мало смысла определение этого образа — это хаос. Хаос обычно рассматривается с негативным оттенком, как нечто бессмысленное, как конечный результат разрушения, как состояние с максимальной энтропией. Можно предложить определение хаоса в таком его понимании, как состояния с наименьшей корреляцией между элементами, составляющими этот хаос. Образ чёрного солнца, идущий из древних времён, значительно сильнее понятия хаос в этой трактовке. «ХАОС в древнегреческой мифологии, поэзии и философии — до космическое состояние, зияющая пра-бездна (от греч. χάσκω, χαίνω — зиять, зевать, разевать рот, быть пустым и голодным)» [4, c. 291]. Но что есть такая зияющая пра-бездна, как не ничто? И эта бездна голодна и разевает свою ненасытную пасть, грозя поглотить всё сущее. Конечно, это может вызвать ужас, и в стихотворении «Ласточка» («Я слово позабыл, что я хотел сказать») Мандельштам пишет:
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья!
Не этого ли зияния хаоса – разверстой бездны ничто боится поэт? Однако он преодолевает этот страх, помня о том, что хаос, ничто – не только угроза сущему, но и его основание, корень, из которого выросло и на котором продолжает держаться всё мироздание.
Мандельштам рассматривал эллинизм как религию геометрии, как религию пространства, в свою очередь иудейство он рассматривал как религию, имеющую темпоральный окрас. И подобно Эйнштейну он рассматривал и пространственный хаос: «…у Мандельштама хаос и небытие — исток жизни. Эллинская «диалектика хаоса» — сердцевина его миропонимания и поэтики» [1, c. 14], и временной хаос: «еврейство для него — хаос, о чём прямым текстом прописано в «Шуме времени» [1, c. 20]. И, конечно, эти две религии оказали огромное влияние на христианство, смешавшись в нём, подобно тому как при высоких скоростях перемешиваются координаты пространственные и временные.
Объемлющее Карла Ясперса — это то, что проступает овеществлёнными предметами и становится доступным для эмпирического опыта. «Само объемлющее не становится предметом, но проявляется в расколе на Я и предмет. Оно само остаётся фоном, безгранично просветляя себя из этого фона в явлении, но оно всегда остаётся объемлющим» [9, c.27]. В этой цитате есть несколько существенных моментов — во-первых, Ясперс рассматривает объемлющее как фон и, во-вторых, он рассматривает просветлённые из него предметы как явления, т. е. как процессы. Предметы при таком описании оказываются не однозначно зафиксированными в пространстве, а становящимися. И субъект различает только ряд событий, связанных с этими предметами.
Несколько в ином свете это понятие раскрывается в работе М. Хайдеггера [8], где понятие объемлющего передаётся оттенками понятия ничто. Тогда в простой дефиниции ничто характеризуется как противоположность сущего, его обнуление или отсутствие и собственно своим отсутствием ничто образует очертания сущего, проявляя его в виде предметов. Но в раскрытии ничто М. Хайдеггером есть и более существенная черта, говорящая о том, что ничто обладает гигантской энергией по сравнению с сущим, которая проявляется моментом экзистенциального страха. Всё сущее блекнет по сравнению с ничто, оно подобно пару растворяется в атмосфере, и тогда понимаешь, что воздух многокомпонентен и что ничто, как небо, действительно объемлющее. В этот момент выявляется единство сущего и ничто. О том, что ничто обладает большей энергией, говорит то, что уровень страха перед ничто сингулярно выше, чем перед сущим.
Мы предполагаем, что уровень страха перед разными видами сущего также пропорционален их масштабам. «Удерживаться в ничто, опираясь на скрытый экзистенциальный страх, суть выход за пределы сущего в целом —трансценденция» [8, c.33]. И если в обычное время человек не замечает объемлющего, полностью находясь в сущем, то в момент трансценденции он как будто прозревает, повышается контрастность зрения и становится видимым ничто. Как уже писалось, мы интенционально наблюдаем различные масштабы поочерёдно, в момент же различения ничто мы видим их все вместе, и это нас колоссально пугает. Такое видение имеет очень малую длительность, когда невидимое становится видимым, и на следующем этапе поэт напоминает игрока, которому показывали в течении десяти секунд десять предметов и ему необходимо их впоследствии описать.
Нельзя не вспомнить формулу Гегеля: бытие=ничто, говорящую о том, что сущность по своей природе тавтологична, поскольку растянута во времени, и что она начинает бытийствовать, когда она взаимодействует с тем, что мы называем ничто, каковое, в свою очередь, актуализируется через то, что мы называем эмерджентностью, некоторой семантической «добавленной стоимостью», кроме того в этот момент происходит темпоральная фокусировка — наблюдение ничто всегда очень коротко во времени.
Попробуем кратко изложить современное представление о мире, рассматриваемое физиками. Как выяснилось, видимая материя составляет только пять процентов массы нашей Вселенной, остальные девяносто пять представляют собой сумму скрытой материи и скрытой энергии. Т.е. представление о материи, окружённой вакуумом, оказалось не совсем корректно. То, что считалось вакуумом, представляется теперь насыщенным конденсатом (термин нобелевского лауреата Ф. Вильчека [2]) пар виртуальных частиц и античастиц в различных комбинациях (электроны — позитроны, кварки — антикварки, и т. д.). То, что представлялось раньше материей, оказалось актуализацией виртуального конденсата (интересно, что virtus в переводе с латинского означает доблесть, сила и мы вновь сталкиваемся с энергетикой ничто). Физиками было показано, что виртуальный и реальный миры взаимодействуют и могут обмениваться своими сущностями. «Существуют веские основания полагать, что это (вакуум) целый новый мир частиц, готовый к тому, чтобы его открыли, и что некоторые из этих частиц входят в состав космического сверхпроводника, также известного как конденсат Хиггса» [2, c.134].
В данной трактовке все сущности реального мира можно поделить на три больших класса: во-первых, вакуум — виртуальный конденсат, состоящий из пар противоположностей, где темпоральные ноль и бесконечность совпадают (отсутствует длительность), во вторых, быстроменяющийся конденсат из неравновесных сущностей, типа звёзд, ядер планет, межзвёздного газа, где в результате эволюции постоянно происходит генерация новых сущностей (из изначального водорода синтезируются остальные химические вещества, несмотря на то, что вероятность такого синтеза мизерна, но благодаря большому количеству столкновений частиц внутри звёздного вещества он становится возможным), и, наконец, последний класс — это материя, окружающая нас, где изменения настолько медленны, что в целом едва ли заметны повседневному глазу. Интересно то, что это самая незначительная часть космоса и самая обсуждаемая, поскольку только с ней человек сталкивается в процессе своего бытия. При этом виртуальный конденсат очень напоминает «ничто» М. Хайдеггера и «объемлющее» К. Ясперса, и в этом случае он исключается из понятия «сущее».
Перенесёмся теперь на сто лет назад и рассмотрим ещё одну трактовку описания мира, данную Витгенштейном. Он описывал в «Логико-философском трактате» мир при помощи комбинаций простых пропозиций, как структуры атомарных предложений, выстраивая таким образом взаимно-однозначное соответствие между реальностью и картиной мира. В представлении Витгенштейна пропозиция представляет собой функцию всех возможных состояний аргумента. Под аргументом понимаются имена, данные разным сущностям мира. Он применил подобное описание для того, чтобы показать логику построения реальности. И рассматривая ментальную конструкцию, определённую Витгенштейном, мы можем что-то сказать о самом бытии, на том основании, что она есть её репрезентация, её проекция. Проекция подразумевается взаимооднозначная, действующая в обе стороны. А логика, выстраиваемая автором, в свою очередь, является следствием аналитичности мира. Нужно отметить то, что мир аналитичен только в течении определённого этапа своей эволюции. «Любая произвольно выбранная система имеет свою историю развития (эволюцию). Согласно нашей концепции, она представляет собой чередование трёх этапов: аналитического, хаотического и синтетического» [5, c.32].
По мнению Витгенштейна, среди возможных пропозиций есть два экстремальных случая: когда пропозиция невозможна, и когда она истинна при всех её аргументах. Первые называются противоречиями, вторые — тавтологиями. «Пропозиция обнаруживает то, что в ней говорится, противоречие и тавтология — то, что в них не говорится ничего. Тавтология не имеет условий истинности, ибо она является безусловно истинной, а противоречие не является истинным ни при каких условиях. Тавтология и противоречие являются бессмысленными» [3, c. 127]. Но, на наш взгляд, такое ограничение ошибочно, и реальный мир Витгенштейна в таком описании выглядит интервалом, чем-то незаконченным, в отличии от отрезка, которому принадлежат и граничные точки. И именно из этих граничных точек рождается то, пока потенциальное, что потом расширит границы этого мира. В системе Витгенштейна пропозиция «чёрное солнце» — это противоречие, никак не соотносимое с реальностью. Как чернота может светить? Но странным образом, эта чернота проявляется в различных науках, через различные понятия (вакуум, конденсат и т. д.).
Если к миру Витгенштейна добавить предельные ситуации, не соответствующие, на первый взгляд, действительности, — противоречия и тавтологии, то можно представить семантический, фантастический мир в виде пара или конденсата, состоящего из простых пропозиций, в котором есть материальный слой, состоящий из тавтологий, и парящий слой, состоящий из противоречий. Сама же реальность состоит из вероятностных пропозиций, которые находятся в диапазоне между противоречиями и тавтологиями. В этом конденсате простые пропозиции постоянно сталкиваются друг с другом, пытаясь соединиться в сложные предложения. Противоречия, соединяясь, не проявляют себя.
В отличии от них, тавтологичные предложения сразу оседают в слое материи. Вероятностные сложные пропозиции как бы мелькают, проявляясь и затухая. Но поскольку мир пропозиций есть проекция реального мира, то очень похоже, что реальный мир, по аналогии с вышесказанным, есть трёхслойный пирог: в верхнем слое находится тёмная материя, состоящая из конденсата противоречий частиц и античастиц. Нижний слой состоит из омертвевшей материи, которая абсолютно тавтологична.
Но самое интересное происходит в центральном слое, где актуализируются противоречия, превращаясь в возможные. Поскольку, чем ниже, тем плотнее субстанция материи или семантики, поэтому активность различных процессов растёт, вероятность возникновения новых сущностей увеличивается по мере их продвижения от слоя противоречий к слою тавтологий. Картина семантического мира идентична миру материальному.
Попробуем продемонстрировать, как актуализируются крайние точки отрезка возможности, вероятность которых как бы равна нулю, но при некотором условии ноль растягивается, и невероятная пропозиция становится вероятной. Процесс перехода из верхнего слоя в нижний, из невозможности в тавтологию идёт по двум каналам одновременно: первый канал — природный, второй — онтологический. Продемонстрируем первый канал.
Синтез тяжёлых элементов внутри звезды изначально был невозможен, пока её ядро состояло целиком из водорода. Возможен был только синтез гелия. Эта ситуация в точности повторяет картину с пропозициями противоречий Витгенштейна. Т. е. сколько бы ядра водорода ни сталкивались, синтеза, к примеру, железа не произойдёт. В дальнейшем, когда был синтезирован гелий и за ним появились более тяжёлые углерод и кислород, образовалась очень маленькая вероятность синтеза тяжёлых металлов. Соответственно, пропозиция, описывающая ядерный синтез, изменила статус, перейдя из противоречия в возможность. Для представлений Витгенштейна это очень важный момент, поскольку он нарушает его основные аксиомы. Теперь продемонстрируем второй канал.
Уровень метафоричности поэтического языка растёт вместе с филогенезом, для появления очень глубоких метафор, типа «пустыня неба», необходимо, чтобы был подготовлен весь семантический контекст; в противном случае она будет находиться в зоне противоречий. Но после появления контекста восприятие метафоры становится возможным, и она начинает эволюционировать. В дальнейшем метафора становится тавтологией подобно пропозиции «время — деньги».
Другая разновидность второго канала, более интересная для дальнейшего развития нашей мысли, — это эволюция научной теории. Это направление позволяет человечеству конкурировать с самой природой. А. Бергсон высказал точную мысль, что интуиция — это сочувствие природе. Из со-чувствия природе, в каком-то смысле из любви к ней, рождается физическая метафора, дающая начало новой научной парадигме. И здесь происходит корреляция экспериментатора словесного и экспериментатора физического — мир семантики и реальный мир смыкаются. И чаще всего, если это действительно новая научная парадигма, а не модернизация старой, её новые аксиомы взяты из области противоречий, например, как это было с теорией Лобачевского.
Постепенно получая эмпирические подтверждения, теория переходит в область возможного и заканчивает свой путь среди тавтологий. Но пока она находится на неравновесном этапе, этапе становления, мы можем, проследив за её эволюцией, выполнить обратную проекцию из области ментального в область эмпирического. И если это теория, к примеру, ядерного синтеза, то мы можем, изначально теоретически, а затем и эмпирически, получить новые химические элементы, которые ещё не были синтезированы самой природой.
И вот с этого момента нам хотелось бы поменять вектор рассмотрения «ничто», как некоего хаоса, с отрицательного, на положительный. Этот момент лучше всего характеризует такое определение поэзии: поэзия — это обнаружение потенции. Т. е. обнаружение возможности построения некой новой системы среди противоречий, в той области, которая никак не соответствует реальности. И, по всей видимости, природа является не меньшим поэтом, чем человек, этот момент хорошо прослеживается на примере эволюции звёзд. Существенная разница в том, что человек пытается искать истину каузально. Здесь же необходимо отметить, что, по мнению Франкла, совесть является тем органом, который в состоянии обнаружить то, чего ещё нет, и, соответственно, поэт и совесть становятся синонимами.
Для лучшего понимания и объединения семантических и реальных каналов конденсации (конденсации лёгких, невозможных и сверхбыстрых пропозиций и элементов вакуума в вероятностные пропозиции и быструю материю) и дальнейшего отвердевания структур, воспользуемся метафорой: «…если представить бытие в виде корабля, то противоречие — это субстанция, в которую входит его носовая часть, турбины корабля производят метафоры, перерабатывающие противоречия, оставляя за кормой тавтологии в виде следа, который ещё виднеется какое-то время» [6]. Поскольку тавтологии имеют отвердевшую, густую консистенцию, этот след будет виднеться ещё очень долго, а средняя, неравновесная часть, где происходит синтез нового, и есть то, что Витгенштейн называл реальностью.
Мы уже задавали вопрос: как чернота может светить? Но вспомним о хаосе в его древнегреческом понимании – о зияющей бездне ничто. Разве не слышится в слове «зиять» созвучие со словом «сиять»? Эти два слова отличаются лишь первыми буквами, причём буквы эти – парные согласные. Не проявилось ли в этом сходстве некое интуитивное понимание нашими предками сущностной связи между зиянием и сиянием – между ничто и светом? И тогда ничто – вернее, уже Ничто с большой буквы – действительно по праву можно назвать чёрным солнцем.
Что же такое чёрный свет чёрного солнца Ничто и чем он выделен относительно белого света белого солнца? Парадокс заключается в том, что белый свет разрушителен, он дефазирует сущность, заставляя её эволюционировать (что всегда болезненно; понятие тепла обманчиво — чем нам холоднее, тем мы долговечнее). Как мы выяснили, для возможности синтеза новой сущности предыдущая должна пройти этап хаоса. О том, что свет может быть божественной, а может быть разрушительной природы, писал в своих трудах Шеллинг — Люцифер в переводе с латинского означает «несущий свет». Напротив, Чёрный свет, по всей видимости можно образно обозначить как Святой дух, собирающий и центрирующий все сущности в Единое.
В работе [7] была предложена гипотеза бозона любви. Он двигается с любой скоростью и фазирует хаотическое состояние, при поглощении которого отдельные части начинают существовать когерентно, и рождается новая сущность. В отличие от других бозонов, в том числе фотонов, бозон любви не несёт энергии, может перемещаться быстрее скорости обычного света и является порождением чёрного солнца. Высветление сущности из объемлющего, о чём писал Ясперс, происходит автоматически при рождении структуры из хаоса. Хаос невидим по причине своей бесструктурности, структура, напротив, становится видимой. Хаос никак не взаимодействует с реальным, поскольку гомогенен и нейтрален, в нём все потенциалы выравнены, структура же, напротив, автоматически порождает градиент и становится видимой. Поглощение бозона любви приводит к синтезу сущности и тем самым её высветлению из объемлющего.
Список литературы
- Вайман Н. Чёрное солнце Мандельштама. М.: Аграф, 2013.
- Вильчек Ф. Тонкая физика. Масса, эфир и объединение всемирных сил. СПб.: Питер, 2018.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2017.
- Новая философская энциклопедия:В 4 т. Т.4. М.:Мысль, 2010.
- Стригин М. Б. Аналитический и синтетический этапы эволюции произвольных систем: онтологические особенности и характеристики // Современный учёный. 2018. № 8. С. 31–39.
- Стригин М. Б. Волновая природа поэзии: онтологический и функциональные аспекты // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 146–153.
- Стригин М. Б. Волновая функция: через мнимости геометрии Флоренского к принципу Маха. // Проблемы исследования вселенной. Том 39, Выпуск 1, 2020. С. 50–62.
- Хайдеггер М. Лекции о метафизике. М.: Языки славянских культур, 2010.
- Ясперс К. Введение в философию. Москва: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017.